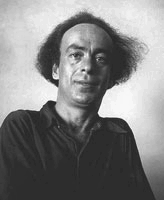
Авраам Шлёнский
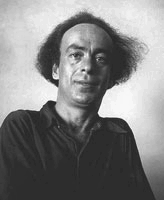
Авраам Шлёнский родился на Украине в селе Крюково (возле Кременчуга) 6 марта 1900 года. Он состоял в родстве с семьей Шнеерсонов и в детстве испытал увлечение Хабадом, рос в семье, где сионистские убеждения и любовь к ивриту сочетались с революционным духом и любовью к русской литературе. Образование получил в реформированном хедере; в 1913–1914 годах учился в гимназии “Герцлия” в Тель-Авиве. В начале 1-й мировой войны отправился на каникулы к семье в Екатеринослав и остался учиться в гимназии с преподаванием на идиш, которую эвакуировали из Вильны в Екатеринослав. В годы гражданской войны был свидетелем погромов и издевательств над евреями.
В 1921 году после многомесячных скитаний по Украине, России, Литве прибыл в Эрец-Исраэль. Работал на прокладке дорог в Хайфе, Тель-Авиве, Иерусалиме, строил шоссе Афула — Нацрат. Осваивал Изреельскую долину в киббуце Эйн-Харод. В 1922 году поселился в Тель-Авиве с намерением жить литературным трудом, но сначала работал на стройке и печатал свои стихи и статьи о литературе в журнале революционно-модернистского направления “Хедим”. В 1924 году поехал в Париж, где впервые столкнулся с жизнью большого города и познакомился с поэзией французского символизма. После возвращения в Тель-Авив в 1925 году был сотрудником газеты “Давар” (переводил на иврит, редактировал литературное приложение), но разошелся с главным редактором Б. Кацнельсоном во взглядах на литературу рабочего движения и ушел из газеты. В 1926–32 годах вместе с Э. Штейнманом выпускал литературный еженедельник Союза ивритских писателей Эрец-Исраэль “Ктувим”, где печатались произведения различных литературных направлений: от традиционных описаний хедера и местечка до революционных памфлетов и сионистских стихов начинающих авторов. Уже через год “Ктувим” отделился от Союза ивритских писателей и стал трибуной нового литературного поколения со Шлёнским во главе, отмежевавшегося от поэтической школы Х. Н. Бялика. Шлёнского тяготило сотрудничество со Штейнманом, который занимал примиренческую позицию, и он ушел из “Ктувим”. Вокруг Шлёнского сплотились печатавшиеся в “Ктувим” молодые поэты и критики — группа “Яхдав” (“Вместе”), которая стала издавать журнал “Турим” (1933–34; 1938–39). Авторы этого журнала искали новые пути в литературе и принципиально избегали актуальной проблематики. С 1928 по 1942 годы Шлёнский работал литературным редактором и вел различные рубрики в газете “Ха-арец”.
В 1939 году примкнул к ха-Шомер ха-ца‘ир, редактировал литературное приложение “Даппим ле-сифрут” к еженедельнику движения; к работе в издании Шлёнский привлек товарищей по “Яхдав”. С момента основания в 1939 году издательства “Сифрият по‘алим” был его сотрудником, работал в издательстве до конца жизни. В годы 2-й мировой войны Шлёнский занимался в основном переводами, особенно советской литературы, так как теперь относился к СССР как к главному защитнику мира от фашизма. Шлёнский издавал также литературный журнал “Итим” (1946–48) и альманах “Орлогин” (13 выпусков, 1950–57).
Первые публикации Шлёнского — юношеское стихотворение “Би-дми йеуш” (“В отчаянии”, 1919) и первая книга — “Двай” (“Скорбь”, 1924; две драматические поэмы) — свидетельствовали о поиске своего пути в литературе. В 1920-е годы Шлёнский написал поэтические циклы автобиографического характера об Украине (“Стам” /“Просто так”/, “Бе-хофзи” /“Второпях”/, “Ярид” /“Ярмарка”/); о времени освоения Земли Израиля (“Гилбоа”; русский перевод — издательство “Библиотека Алия”, Иер., 1991) и мытарствах в Тель-Авиве (“Лех леха” / “Пойди...”/); эти циклы составили книгу “Ба-галгал” (“Круговерть”, 1927). Почти все они написаны акцентным стихом, тяготеют к декламационной риторике с ашкеназским ударением, изобилуют гиперболами и библеизмами; Шлёнский неожиданными образами намеренно эпатирует читателя. Раннее творчество Шлёнского несет отпечаток русского имажинизма и футуризма. Есенинским лиризмом проникнута книга стихов “Ле-абба-имма” (“К папе с мамой”, 1927), описывающая неустроенную и вдохновенную жизнь энтузиастов третьей алии.
Книга стихов “Бе-эле ха-ямим” (“В эти дни”, 1930) знаменует окончательный переход Шлёнского к сефардскому произношению, а также овладение упорядоченной строфикой и метрикой. Образы еврейской традиции и сельские пейзажи Эрец-Исраэль сплетаются с образами европейской “чужбины”, словно предвещая переход к поэтике следующей книги — “Авней боху” (“Камни хаоса”, 1933), открывшей новую эпоху в истории литературы на иврите — эпоху так называемого израильского символизма. Замысленная как большая поэма, книга составлена из циклов лирических стихотворений, которые описывают впечатления и душевное состояние еврейского провинциала, впервые ввергнутого в многоярусную урбанистическую структуру Парижа (в 1930 и 1932 годах Шлёнский дважды совершал поездки по столицам Европы). Шлёнский впервые осваивает на иврите образы “чудовищ” большого города: трамваев, туннелей, ночных набережных — обиталища проституток и самоубийц. Шлёнский продемонстрировал виртуозность рифмовки и звукопись, при которой фонетические созвучия диктуют смысловую перспективу стиха. Книга, никак не касавшаяся темы сионизма, своим появлением в литературе на иврите утверждала самодовлеющую ценность искусства и поэтического мастерства. Она вызвала разноречивые отклики и послужила образцом для таких поэтов, как Н. Альтерман, Леа Гольдберг и другие.
Книга стихов “Ширей ха-мапполет ве-ха-пиюс” (“Стихи обвала и примирения”, 1938) воспроизводит впечатления от поездки Шлёнского в Чехословакию и Францию. Доминирующая тема — страх: заимствованный у Л. Толстого и вынесенный в эпиграф образ “квадратной луны” обогащен значением слова “квадратный” из Иерусалимского Талмуда (“нет квадратного с сотворения мира..., нет квадратного в человеке”, ТИ., Нед. 3:2), где оно связано с разрушительной функцией человека в мире. Квадратное окно поезда, квадраты площадей чужбины, квадраты свастик вызывают у поэта предчувствие беды, которое воскрешает память о пережитом. Произведение насыщено мотивами из прежних книг, что свидетельствует о некотором оскудении поэтического воображения Шлёнского в этот период. Следующие книги стихов “Ал милет” (“Будь благословенно изобилие”, 1947) и “Авней гвил” (“Первозданные камни”, 1960) разрабатывали жизнеутверждающую тему гармонии человека и мироздания в новом союзе, подобном бывшему “в начале” и нарушенному развитием цивилизации. Сквозными мотивами в них предстают дерево, поле как аллегория человека и материнство как высшая универсальная категория и как источник счастья. Стиль Шлёнского тяготеет в этих книгах к притче, к прозрачному развернутому сравнению, составленному из метафорических картин.
Стихи Шлёнского переводились на разные языки.
Шлёнский — непревзойденный мастер поэтического перевода с русского языка, в первую очередь произведений А. С. Пушкина. Перевод “Евгения Онегина” (1-я редакция — 1937; 6-я редакция и примечания — 1966; в 1999 г. в Иерусалиме к 200-летнему юбилею А. С. Пушкина впервые перевод Шлёнского был издан с параллельным русским текстом; под редакцией С. Шварцбанда) со скрупулезной точностью воспроизводит ритмику и стилистическое богатство оригинала и признан критикой лучшим переводом этого произведения на иностранный язык. Шлёнский много сделал для распространения русской литературы и советской литературы, которые повлияли на ивритскую поэзию и прозу; на его переводах выросло несколько поколений израильтян. Среди переводов Шлёнского: “Двенадцать” (1929) и “Скифы” (1941) А. Блока, “Борис Годунов”, лирика и “Маленькие трагедии” Пушкина, “Поднятая целина” (1935) и “Тихий Дон” (1953–58) М. Шолохова, рассказы И. Бабеля, В. Бианки, пьесы Н. Гоголя (“Ревизор”, 1935, и “Женитьба”, 1944), А. Чехова, М. Горького, А. Островского и многих других. Событием в жизни ишува стал выход сборника “Шират Руссия” (“Поэзия России”, 1942) под редакцией Шлёнского и Леи Гольдберг.
Шлёнский переводил также с идиш, в том числе поэзию Х. Лейвика и И. Мангера, а также мировую классику, помимо оригинала пользуясь русскими переводами, в том числе “Гамлета” (1946) и “Короля Лира” (1955) У. Шекспира, “Тиля Уленшпигеля” (1949) Ш. де Костера. Шлёнский создал школу перевода, принципиальными задачами которого считал богатство лексики, вплоть до использования неологизмов и прямой передачи русских слов; точность в передаче реалий, что требовало от переводчика исследовательской работы; воспроизведение различных стилей прямой речи (для чего сам Шлёнский часто прибегал к арамейским включениям).
С 1945 года Шлёнский избран членом Комитета языка иврит. Велик вклад Шлёнского в развитие лексики иврита: так, он конкретизировал многие названия растений и животных (в последние годы в связи с общей тенденцией к изменению синтаксиса иврита и к сужению активного словарного запаса переводы Шлёнского и его последователей иногда даже кажутся лексически перегруженными и малопонятными).
Шлёнский — автор ряда книг для детей, в том числе “Алилот Мики Маху” (“Похождения Мики Кто-Он”, 1947), “Ани ве-Тали бе-эрец Ха-лама” (“Я и Тали в стране Почему”, 1957), пьеса “Уц-ли гуц-ли” (1965), где проявилась его склонность к словесной игре, аллитерациям, каламбуру.
Авраам Шлёнский скончался в 1973 году в Тель-Авиве.
|
И ВСЁ ЖЕ – НЕ ПРОСТО Муза, спой мне песню ныне — Перевод Е. Бауха
ИСКУШЕНИЯ К несчастью, мне сопутствует успех.
ПИСЬМЕНА Намеком о себе гроза их известила,
ПЕСНЯ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ То последней страницы печаль наготове —
СЕМЬЯ (ЗУЛЕЙХА) Умолкла сталь.
ПАСТУХ Эта яркая высь над тобой — так близка...
НЕТРЕЗВАЯ НОЧЬ Как сын, что ждет отца, а тот лежит, |
Авраам Шлёнский. Стихотворения